«Крест ― вот разгадка»: «Отцы и дети» как христианский роман
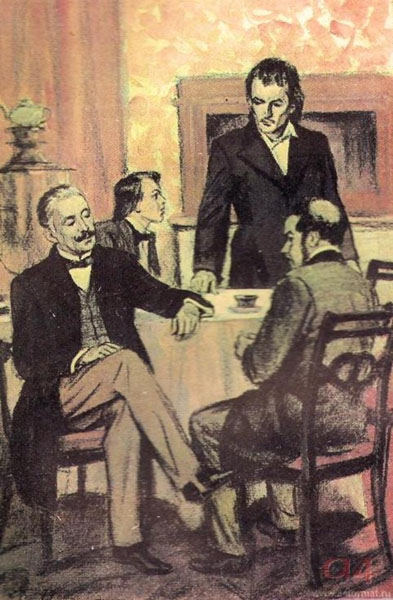 |
...Еще же, возлюбленный, ты должен знать и то, что родивший тебя по плоти отец не есть твой истинный отец, потому что он дал тебе только плоть тленную, скоро умирающую. Истинный же твой Отец ― Всесильный Бог. ... Итак, у тебя один отец ― видимый, другой же ― невидимый. ...И если дети должны почитать плотского своего родителя, то тем более должны они чтить Того, Кто создал нас по образу и подобию Своему...
Из наставлений преподобномученика Епиктета преподобномученику Астиону (Патерик земли Болгарской. Ил. 7/20).
Со временем выражение «отцы и дети» в смысле конфликта поколений стало хрестоматийным, и употребляющие его даже не задумываются иногда об истоках проблемы и о том, как прочитывали роман в XIX веке. Между тем, для читателя, который в силу православности Российской Империи был с детства погружен в богослужебную атмосферу, тема «сыновства» и «отцовства» неизбежно вызывала христианские ассоциации, которые подкреплял и сюжетно-образный строй романа.
Рецензии ортодоксально мыслящих современников Тургенева на его роман в большинстве своем затерялись на страницах церковной периодики того времени и терпеливо ждут своих исследователей. Не имея возможности обратиться к этим текстам, попробуем, однако, взглянуть на роман с православной точки зрения.
На первый взгляд кажется, что два главных аспекта семейной проблематики достаточно явно указаны самим автором.
Это, во-первых, идейное размежевание различных поколений как вполне естественное следствие постоянного и динамичного развития общества: «Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька ― а проглотить ее нужно... Вот теперь настала наша очередь и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю», ― грустно говорит отец Аркадия своему брату.
А во-вторых, разделение всех людей в социально-нравственной сфере на два класса: тех, кто тяготеет к созданию семейного гнезда («ручные» люди, по словам сестры Одинцовой Кати), и иных, которые ищут в жизни «бури и натиска», то есть пылкой, всепоглощающей страсти. Причем эта страсть может быть связана с противоположным полом, как случилось в жизни Павла Кирсанова, а может быть направлена на какую-то иную сферу человеческого бытия. Последний вариант мы встречаем в жизни Базарова до его влюбленности в Одинцову ― весь пыл его души устремлен на науку и общественную мысль (неоднократно исследователи отмечали, что глухие намеки в тексте указывают на революционную будущность Базарова). А об отношениях с женщинами он отзывается в приземленно-натуралистичном духе, сводя их к физиологии.
Кажется, и христианские акценты в двух этих проблемах расставить очень просто. Каковы бы ни были идейные расхождения, сыновья, которые не выказывают почтения и уважения к своим отцам, нарушают этим четвертую заповедь. Их неправота еще более очевидна в данном случае, поскольку, как свидетельствует писатель, отцы романа души не чают в своих сыновьях и многим ради них пожертвовали.
 |
Что касается соотношения между страстью или влечением к женщине и созданием семьи, то роман прекрасно иллюстрирует слова апостола о том, что «лучше жениться, нежели разжигаться». Страсть к женщине в «Отцах и детях» показана как жестокая и губительная сила, завладевающая всем человеком, заставляющая его совершать поступки, ломающие и его собственную, и чужие жизни. В присутствии Одинцовой Базаров пытается совладать с собой, но это страшное нечто, владеющее его существом, мучает его и пытается прорваться вовне: «страсть в нем билась, сильная и тяжелая ― страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей». В какой-то момент Базаров под влиянием своего влечения становится похож на хищного зверя ― Одинцова пугается его порывистых движений и «пожирающего взгляда», он так сильно стискивает ей руку, что остается след. Интересно, что в другой раз облик хищника проступит сквозь черты Базарова в момент его ссоры с Аркадием: «...― Ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло... Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... лицо его... показалось таким зловещим... нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах». Этим образным сближением двух ситуаций Тургенев подчеркивает, что страсть сродни ненависти в своей стихийной разрушительности и неподвластности человеческому разуму.
Обе этих мысли ― и о греховности непочитания родителей, и о пагубности страсти, ― для христианина представляются достаточно очевидными. И если бы Тургенев ограничился только ими, то ничего по существу нового в сфере нравственного богословия он бы не сказал ― разве что, как любой талантливый писатель, нашел бы свои слова и образы для передачи азбучных, в общем-то, духовных истин.
Однако христианский смысл романа намного глубже. Писатель удивительно тонко показывает не только грех детей ― но и гораздо более страшную вину отцов. И Кирсанов, и Базаров-старший действительно потратили много времени, сил и средств на воспитание своих сыновей, однако строили они не на том основании, не думая о вечности, и потому не научили своих детей главному ― чтить земных родителей и Небесного Отца. В отношении каждого из отцов со своим сыном «мерой всех вещей» был сам ребенком, из которого они превращали в некоего идола ― и потом усиленно искали знаков его благоволения, позволяя ему при этом делать все, что ему захочется. В результате избалованный ребенок, не приобретший навыка благоговейного почтения, вырастал в борца со всеми авторитетами.
 |
В ходе то запальчивой, то холодно-ядовитой полемики Базарова с Павлом Кирсановым они доходят до заветной черты: отвергая все авторитеты, молодое поколение нигилистов отвергает и Главный Авторитет. Это заявление вызывает у представителей «отцов» священный ужас. Между тем, эта богоборческая позиция ― лишь следствие того, что отцы не сумели передать своим детям представлений об истинном отцовстве. А не сумели они этого сделать потому, что и сами потеряли связь с Отцом. Эта причинно-следственная связь наиболее очевидно проявляется в тех эпизодах, когда Базаров-старший в угоду своему сыну с легкостью отрекается от своих религиозных убеждений (говоря о благодарственном молебне, который отслужили в честь приезда сына, Василий Иванович называет его «предрассудком» и уверяет, что настояла на нем жена, «не смея сознаться, что он сам пожелал молебна»). Да не просто отрекается ― но еще и поощряет насмешливое к ним отношение: Василий Иванович «с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал ... его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки, и, например, в течение нескольких дней... все твердил: «Ну, это дело девятое!» ― потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение». По контрасту невольно вспоминается эпизод, рассказанный одним православным священнослужителем, служившем заграницей, об опыте своего общения с верующими в Советском Союзе. Как-то, приехав в Россию, он совершил Богослужение в одном из храмов Троице-Сергиевой Лавры. Его поразило, что многие подходившие к кресту после отпуста плакали. Отведя крест в сторону, он наклонился к одной из женщин: «О чем ты?». «Помолитесь за меня, ― с болью в голосе откликнулась она, ― У меня большое горе. Мой сын ― неверующий...»
В свете нехристианского отношения отцов к сыновьям, показанного Тургеневым, по-другому видится и вторая проблема романа. Да, бесспорно, похоть ― это плохо. Ну а семьи, в которых ребенка не воспитывают в Богопочтении, ― это хорошо? Этот вопрос не ставится в романе впрямую. Но очень ярко в нем противопоставляются духовные позиции Базарова и Аркадия. Первый бьется и томится от осознания своей ничтожности и смертности. Да, он впадает от этого сознания то в ярость, то в холодную насмешливость, но он хотя бы ставит себя перед лицом чего-то бесконечно большего, чем он сам, пусть он даже и не называет это Богом.
Духовная позиция Базарова сродни «богоборческому теоцентризму», о котором много позже будут говорить в связи с творчеством Сартра: «Вся идеологическая конструкция Сартра рухнула бы, если бы модель мира, в которой действует экзистенциальный человек, не включала бы в качестве негативного определителя «абсолютный глаз» ― Бога как причину и источник «изначального стыда» и доведенного до предела понятия «инаковости другого». Безрелигиозному сартровскому человеку Бог нужен хотя бы для того, чтобы, отрицая Его, утверждать свою собственную субъективность» («Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира»).
Аркадию такие переживания чужды. Он, в отличие от Базарова, очень по-доброму, тепло и внимательно относится к окружающим людям, подмечает любовь и страдания родителей Базарова, умеет в каждом человеке разглядеть что-то хорошее. Но Аркадий не испытывает духовной потребности поднять глаза на небо, заглянуть за пределы обычной человеческой жизни. И когда Базаров в связи сего сватовством насмешливо приводит ему в пример галку как «самую почтенную, семейную птицу», в этом есть и некая доля истины ― в «семейных гнездах» романа, живущих по законам самой светлой идиллии, не чувствуется дыхания вечности.
Но не все так безнадежно. Тургенев не только обозначает проблему ― он и указывает то направление, где можно найти целительное средство.
 |
В истории любви Павла Кирсанова к княгине Р. есть загадочный образ: Кирсанов дарит возлюбенной кольцо со сфинксом, говоря ей, что сфинкс ― это она. Перед смертью княгиня передает кольцо назад: «Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест ― вот разгадка». Разгадка чего? Не судьбы княгини ― потому что были в ее жизни легкомысленные связи и поступки, которые нельзя объяснить крестом. Разгадка ее обаяния? Да, возможно ― судя по описанию ее жизни, душа княгини была расколота, возможно, даже по причине психического расстройства, но была в ее сердце и глубокая вера, хотя и не без болезненного надрыва, которая придавала одухотворенность и ее внешнему облику. Но символ кольца с крестом как указанием на «разгадку» перерастает рамки одной человеческой судьбы и становится ключом ко всему роману. Он смыкается с последним эпизодом «Отцов и детей» ― осиротевшие старички Базаровы приходят на сельское кладбище, где среди «серых деревянных крестов» скрывается могила их единственного и горячо любимого сына. Тяжела их походка, горек плач ― нелегко дается им тот крест, который послал Господь. Но эти страдания не раздавливают их, а, наоборот, преображают, очищая пылкое родительское чувство от пристрастия, которым оно было пропитано при жизни Евгения. Теперь их чувство стало христианским ― они ставят себя и сына перед Богом, изливая свою скорбь в долгой молитве. Очищается и их чувство к Богу ― от того стеснения за свою веру, которое в присутствии сына владело отцом, от суеверий и обрядоверия, которые ранее царили в душе матери: «...она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света... верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится... не ела ...арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи».
В душе отца переоценка ценностей начинается сразу, как только тень креста легла на его жизнь ― когда он понял, что сын, заразившись тифом, умирает. Хоть и не без внутренней робости, он, однако, решается проявить перед сыном свою набожность: «Евгений, ― продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. ― Евгений, тебе теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь, но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...». Вера матери наиболее ярко проявляется в первые после смерти сына минуты, когда духовные силы мужа оскудели: «Когда же он (Евгений ― Е.В.) наконец испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, ― хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, ― и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц (так потом они будет падать ниц в молитве у могилы сына ― Е.В.). «Так, ― рассказывала потом в людской Анфисушка, ― рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень». Образ овечек вызывает в памяти читателя закрепленный в церковной традиции образ Христа как Доброго Пастыря и верующих как «малого стада», а также евангельский отрывок о Страшном Суде, где верные христиане также называются «овцами». Смиренно приняв крест, посланный Богом, Василий Иванович и Арина Власьевна тем самым вступают на путь, ведущий к Отцу. Это подтверждается и другой христианской ассоциацией: в описании жизни родителей Базарова после его смерти евангельское «приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные...» преломляется в мотив «тихого убежища, где сладко спится измученным и усталым». Благодаря кресту их семейное гнездышко превращается в «малую Церковь», взращивающую своих членов в жизнь вечную: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая преданная любовь не всесильна? О нет!» ― с уверенностью восклицает писатель, любовно вглядываясь в молитвенное предстояние старичков.
 |
Был ли сам Тургенев верующим человеком? По-разному отвечают на этот вопрос. Но бесспорно то, что он был, по крайней мере, верующим в спасительную силу веры. Об этом свидетельствует его эпистолярное наследие ― так, в одном из писем он говорит: «...Да, земное все прах и тлен ― и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны. ...Имеющий веру ― имеет все и ничего потерять не может; а кто ее не имеет ― тот ничего не имеет, и это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим!...Но я еще не теряю надежды».
Эта надежда одухотворяет и роман Тургенева, показывая, что кроме страстей, идейных споров, уютного семейного мирка есть и иное, главное, все преображающее и освящающее ― тот Крест, который приводит к «жизни бесконечной». Именно этими двумя словами, открывающими дверь в вечность, и заканчивается роман.
Впервые опубликовано 14 июля 2008 года















