Герои страсти над обрывом любви
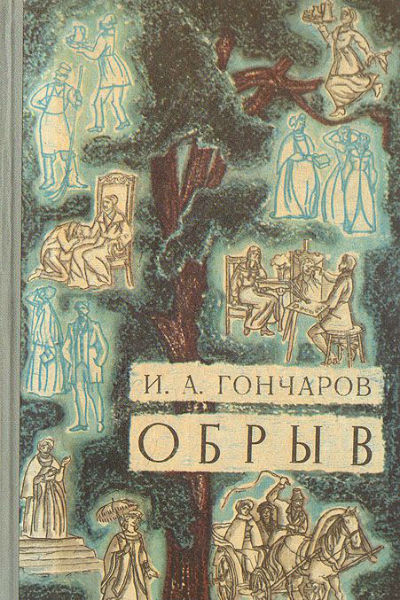 |
Именно с такой страстью связано название романа, настойчиво возводимое автором в символ: обрыв — реальное место, где когда-то обманутый муж убил жену, ее любовника, а потом покончил жизнь самоубийством. Одна героиня романа, Марфенька, боится сюда спускаться, даже опираясь на руку Бориса (и это опять-таки символ — так же она устоит и перед напором его страсти, сохранив свою невинность и чистоту), — другая же именно здесь совершит роковой шаг в объятия страстной любви.
Главный герой, Борис Райский, в начале романа выступает апологетом страсти. Она возводится им в культ, поэтизируется, представляется ему смыслом жизни. Он жадно ищет ее везде — в музыке, в книгах, в людях... И главное — в отношениях с женщинами. Страстное, упоенное переживание влюбленности заставляет Бориса чувствовать себя живым, настоящим. С течением времени впечатление теряет новизну, он остывает — и, чтобы поддержать в себе это сладостное ощущение жизни, бросается на поиски нового повода для своего чувства, с полным безразличием оставляя ту, которая вызывала страсть раньше. Верность, привязанность, долг — все это слова не из его лексикона, хотя сам он уверен в обратном. Размышляя о женщинах, которых он, охладев, оставляет, Борис не чувствует себя виноватым — наготове романтическая концепция о поисках Идеала, которому каждая из его избранниц рано или поздно перестает соответствовать. Только из-за этого, как уверен Борис, дело и не доходит до свадьбы — а будь она Той, которой он так жаждет поклоняться, он остался бы с ней на всю жизнь.
Борис не просто сам так живет — он выступает и апостолом своей веры. А точнее, неким змеем-искусителем (не случайно же и фамилия у него «говорящая»), который шепчет (именно этот глагол или созвучные ему по эмоциональной окраске употребляет Гончаров) очередной жертве, что она не живет, а спит, нужно отдаться страсти, нужно пробудиться, почувствовать жизнь. Иногда в его речах слышатся и прямые отзвуки давнего разговора о запретном плоде и заветной цели быть как боги: «...кузина, над вами совершено систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца!.. Воскресните, кузина, от сна... Вы не упадете, вы слишком чисты, светлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко. Вы черпнете познания добра и зла, упьетесь счастьем... В вашем покое будет биться пульс, будет жить сознание счастья... перед вами откроется глубина собственного сердца, и тогда весь мир упадет перед вами на колени, как падаю я...» И всего-то нужно для такого преображения, по словам Бориса, — переступить мертвые, неизвестно какими предками придуманные запреты, отдаться вольному потоку любви, никого не слушая, не обращая внимания ни на что, кроме захлестнувшего тебя чувства. Он пытается внушить это трем героиням — Софье, Марфеньке и Вере. Однако не они одни испытываются в романе искушением страстью — большинство героев и героинь меряются этой меркой. Результат весьма интересен и заслуживает пристального внимания.
 |
Страсть, которую исповедует Борис, двулика. Он романтизирует ее, воспевает как истинную поэзию, нерв жизни. Но иногда она оборачивается к нему иной стороной — и оказывается обыкновенной похотью, сладострастием плоти — или жалкой карикатурой на него. Эту «оборотную сторону медали» демонстрируют в романе такие героини, как служанка Марина, которую муж застает то с одним, то с другим любовником; Полина Карповна и отец Софьи, Пахотин, которые упиваются не самим развратом, а игрой в него. Попадается в «ловушку похоти» и сам апологет романтической бурной любви: сначала с Марфенькой, которую он хотел просветить, а вместо этого чуть не развратил; потом с Ульяной, женой его друга, которую он шел пристыдить за ветреное поведение, а закончил тем, что сам соблазнился ею и пал.
В ситуации с Марфенькой Борис искренне поражен своим внутренним падением, он не понимает, в чем его причина: «...полчаса назад я был честен, чист, горд; полчаса позже этот святой ребенок превратился бы в жалкое создание, а «честный и гордый» человек в величайшего негодяя! Гордый дух уступил бы всемогущей плоти; кровь и нервы посмеялись бы над философией, нравственностью, развитием...» Однако этот эпизод ничему не учит Райского, заставляя сделать лишь практический вывод — избегать сестринских ласк Марфеньки, чтобы не соблазниться вновь. Сама же философия страсти остается для него на прежней высоте.
Второй эпизод, с Ульяной, повторяет урок, усиливая его — и вновь Борис искренне не понимает, почему это случилось, ведь он был уверен в своей нравственности, в своих благих намерениях — и опять пал, теперь уже не только мысленно. Впрочем, Райский на удивление быстро находит себе оправдание: у человека нет воли, это миф, «она вовсе не в распоряжении господина, «царя природы», а подлежит каким-то посторонним законам и действует по ним, не спрашивая его согласия. Она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не то, что надо...».
Заканчивается это рассуждение примирительным «я сделал все, что мог, хоть и вышло не то, что надо» — и укоры совести смолкают настолько, что, занося эту сцену падения в свой роман, Борис с досадой задумывается: «...ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой, и только такой». В собственных глазах он — не такой, его падение — только эпизод, и притом второстепенный. Потому что, по его теории, изложенной в начале романа Аянову, тяга к страсти, дон-жуанизм — это прежде всего эстетическое наслаждение, и лишь недостаток утонченности натуры может привести к «увлечению за пределы этого поклонения». Борис не замечает, что он подпадает под власть физиологии не только в этих двух показательных случаях — и во время возвышенных «проповедей» Софье и Вере он, как видно из описаний, в какой-то момент хмелеет под напором физического влечения. Но многое должно произойти в его жизни, прежде чем он увидит очевидное: страсть не «падает» в утоление животных инстинктов, а неразрывно с ними связана, она и ищет грозы, бури, хмеля — а не другого человека, как такового: «...ему ли, прожженному опытами, не знать, что все любовные мечты, слезы, все нежные чувства — суть только цветы, под которыми прячутся нимфа и сатир», горько думает он.
 |
Эту истину понимает с самого начала другой герой романа, Марк Волохов, апологет «новой жизни» и «свободной любви» без обязательств и сроков, и, видя «биологическую суть» любых отношений мужчины и женщины, с достаточной долей цинизма объясняет ее своей возлюбленной — и удивительно, как некоторые его слова о мертвых правилах, которые мешают отдаться страсти, перекликаются с проповедями Бориса. Но речи Райского окрашены романтизмом, идеализацией чувства, Марк же безжалостно бичует «все эти чувства, симпатии и прочее», которые, по его словам, только «драпировка» сексуального влечения, «те листья, которыми, говорят, прикрывались люди еще в раю...» Различаются и цели двух проповедников страсти. Марк добивается конкретного результата — того, чтобы Вера отдалась ему. Райский, как выясняется по ходу романа, сам не понимает, что, пытаясь пробудить в женщине страсть, играет с огнем, который может сжечь и его, и чужую жизнь.
Когда его зажигательные речи, обращенные к Софье, достигают успеха, — она влюбляется в некоего итальянца, графа Милари, Борис искренне возмущен, в нем, опять-таки неожиданно для него самого, просыпаются те самые «мертвые правила» о чести дворянского рода: «Вы снизойдете до какого-нибудь парвеню (выскочки), до какого-то Милари... вы, Пахотина, блеск, гордость, перл нашего общества! Вы... вы! — с изумлением, почти с ужасом повторял он». Несоответствие возвышенных картин бурного романа, которые он с упоением рисовал Софии, с ее выбором «безвестного выходца, самозванца-графа» вызывает у него разочарование.
Вторая удача его «проповеди страсти» обратится для него не в водевиль, а в трагедию. Сначала он сам, пленившись Верой, почувствует вдруг, что страсть может быть не сладостной мукой, а просто тяжелой болезнью, медленно убивающей человека, заставляющей его одновременно ненавидеть предмет своих страданий и зависеть от него каждую минуту. Затем произойдет еще более страшное — он увидит, как от той же болезни страдает и гибнет сама Вера. Тяжелая сцена ее нравственного сумасшествия, когда она рвется туда, «в обрыв», к неведомому Борису возлюбленному, Райский пытается удержать ее (она сама раньше просила его об этой услуге), а она, обезумев под влиянием страсти, то лаской, то силой пытается обойти его и добраться до вожделенного места, и то, что произошло в результате этого между Верой и Марком, наконец заставляют Бориса понять, что есть страсть на самом деле, и сдернуть с нее ту романтическую драпировку, которой он так тщательно ее укрывал. Прощальный всплеск его эмоций — букет из померанцевых цветов (символа невинности), который Борис бросает в окно потерявшей невинность Вере. Но вспыхнувшее раскаяние за этот жестокий поступок наконец побеждает страсть — в сердце Бориса окончательно воцаряется иное чувство, наполненное бережной жалостью и заботой к страдающей сестре.
Однако означает ли это, что страсть в романе развенчана и побеждена полностью?
Как ни странно, нет. Ее апологетом невольно остается... сам Гончаров.
 |
Как мы сказали ранее, главные герои и героини романа делятся на группы в зависимости от того, как они воспринимают страсть. Этих групп три: упивающиеся страстью (облеченной в поэтические одеяния или приземленно-похотливой), страсти не подвластные и страсть преодолевшие. Разобрав первую группу, обратимся к двум другим.
Яркие представители тех, кому страсть чужда — это простые, цельные, светлые натуры Марфеньки, Викентьева, Тушина и возлюбленной Райского Наташи. Что касается последней, то он на первый взгляд страсти поддалась, когда, не дожидаясь венчания, стала возлюбленной Бориса. Но в том-то и была трагедия их отношений, что внутренне она стала не любовницей, а женой, спокойно и просто отдавшей ему всю свою жизнь: «Она полюбила его не страстью, а какою-то ничем не возмутимою, ничего не боящеюся любовью, без слез, без страданий, без жертв... потому что не понимала, как можно полюбить и опять не полюбить». Ни бури эмоций, ни переменчивости, ни тайны, ни упоения боя и победы — ничего этого не искала она и не могла ему дать, и потому быстро наскучила Борису: «...этот ягненок нежно щиплет траву, обмахивается хвостом и жмется ко мне, как к матке... Нет, это растительная жизнь, не жизнь, а сон...» Борис все чаще оставлял ее одну — а когда возвращался, она встречала его так же кротко и ласково, как раньше. Наконец, не оцененная им, она тихо заболела чахоткой и умерла — столь же любящая, спокойная и нежная.
Казалось бы, в том, что их отношения не сложились, полностью вина Бориса, гнавшегося за вожделенным призраком грозы и бури. Но одна деталь низводит образ Наташи с пьедестала идеальной женщины-жены: она умерла, так и не поняв, не почувствовав, что Райский ее разлюбил.
Удивительно, что и два других сугубо положительных персонажа романа, Марфенька и Викентьев, сохранившие внутреннюю чистоту под натиском страсти (внешней — у Марфеньки, которую соблазнял Борис, внутренней — у Викентьева, когда в ночной роще он вдруг повзрослел и открыл в себе любовь-влечение к Марфе), показаны Гончаровым как существа целомудренные и светлые, но в чем-то недалекие, дети, еще многого не понимающие и не чувствующие.
Марфенька, если рассматривать этот образ отвлеченно, предстает перед нами как Идеальная Женщина: целомудренная, верующая (с каким чувством она пересказывает Борису представления о христианских ценностях, почерпнутые ей из проповедей отца Василия как руководство к жизни!), мечтающая о семье и детях, хозяйственная, заботливая, сердобольная (сколько повседневного добра она делает крестьянам — в то время как Райский, обрушивший в свое время на Софью пафосную речь о страдающих беременных крестьянках, вынужденных работать для таких равнодушных барышень, как она, Софья, встретив такую беременную крестьянку в действительности, и сам ничего не делает, чтобы облегчить ее участь)... Однако все эти добродетели Марфеньки описаны Гончаровым с каким-то ласковым снисхождением, как нечто очень умилительное, но — ребяческое по сравнению со Взрослой Жизнью, которой живут страдающие герои.
 |
Даже Тушин, показанный Гончаровым как идеальный герой («...с умом у него дружно шло рядом и билось сердце — и все это уходило в жизнь, в дело, следовательно, и воля у него была послушным орудием умственной и нравственной силы»), нуждается в неких оправдательных словах. За что же? За то, что «высоты умственного и нравственного развития» он не достиг «путем мук, жертв, страшного труда всей жизни над собой», а получил как бы в дар от природы и судьбы, и в этом нет его победы и его заслуги.
Страсть и сопутствующее ей падение выступают в романе целителем несовершенств человеческой души. Эта «учительная функция» согласуется с духовным опытом христианства — как говорили святые отцы, если кто-то пал, то это падение обязательно предварила гордость. И именно горделивую душу призвано исцелить такое падение, что и происходит в романе с Верой, которая от требований независимости и свободы обращается к мысли о том, что нужно жить для людей, им посвятить все силы своей души; и с бабушкой, у которой в начале романа один, но довольно крупный недостаток — ее сословное тщеславие, гордость знатным родом. Это тщеславие исцеляется, когда проступок Веры извлекает из небытия точно такой же проступок бабушки, совершенный ею в юности.
Однако страсть в романе предстает не только падением, которое, как и любой грех, Господь в силах обратить ко благу. Развитием сюжета Гончаров словно повторяет обещание, данное Райским Софье, — вкусив запретный плод страсти, человек обретает возможность познать свое сердце и соответственно приобрести неоценимый нравственный опыт, который позволит ему стать мудрее. Показательно, как меняется отношение Райского к бабушке, когда он узнает, что она не старая дева, которая, как он считает, не способна до конца понять страдания Веры, а женщина, прошедшая тот же путь страсти: «У него в руках был ключ от прошлого, от всей жизни бабушки. Ему ясно все: отчего она такая? Откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца».
Разумеется, жизнь Марии Египетской ценна именно тем, какими невероятными подвигами после многих лет блуда она вернула себе духовную невинность. Но высоко ценится в христианстве и другой подвиг — сохранение первоначальной внутренней чистоты. Гончаров же, увлекшись описанием преодоления страсти, кажется, невольно сместил исходные акценты. Хотел того автор или нет, но получилось так, что герои, не подпавшие под влияние страсти, оцениваются в романе не так высоко, как познавшие страсть и ее преодолевшие. Марфенька высказывает простую и ясную веру в то, что она никогда не полюбит «картежника или такого, который смеется над религией». Вера же, несмотря на циничные взгляды Марка, полностью отрицающие все то, во что она верит (и человеческие идеалы, и Самого Бога), в него влюбляется и ему отдается. Кто нравственно выше? Кажется, что цельная и чистая Марфенька. Но ее credo показано как трогательный и наивный лепет ребенка, не знающего жизни, а борьба Веры, ее страстные молитвы в часовне (неоднократно заканчивающиеся тем, что она встречает бесстрастный взгляд Спасителя на иконе и обреченно уходит) и последующая победа чувства над убеждениями — как этап становления глубокой и сильной личности.
Но необходимый ли это этап?
Обрыв — это не только яркая достопримечательность пейзажа, но и аномалия, возникшая в результате нарушения законов. Законов природы — если речь идет об обрыве над рекой. Божественных законов — если речь идет об обрыве в страсть.
А пологие берега, выглядящие, быть может, не столь романтично, создают, однако, единое целое с мирно струящейся меж ними рекой...
Впервые опубликовано 28 февраля 2008 года

















