Читалка математика Григория Чечкина: шведские детективы, Кавказские войны, русские романы
 |
| Григорий Чечкин. Фото: Mathnet.ru |
Хотя в детстве я читал мало, все «базовые» книги, конечно, осилил: Жюля Верна, Майна Рида… Но читал долго. Например, «Детей капитана Гранта» я читал год. Книга шла тяжело, потому что там много сюжетных линий, всяких технических деталей. Я, в общем-то, до сих пор медленно читаю — 25 страниц в час, осознаю, что это совсем мало и смешно. Зато я понимаю и запоминаю, что читаю!
В школьные годы я тоже читал «базовые» вещи, правда, не все. Например, «Мертвые души» дались тяжело, их я осилил до конца только в прошлом году. Зато прекрасно дался роман «Преступление и наказание». Это была моя книга! Я ее с удовольствием проглотил дней за пять. Потом прочитал и все остальное у Достоевского — «Братьев Карамазовых», «Идиота», рассказы… Толстой шел тяжело. Я потом, конечно, понял, что «Война и мир» рассчитана вовсе не на детский мозг и все вторые и третьи смысловые планы совершенно не воспринимаются школьниками. Особенно вспоминается наивный вопрос: «Что тебе больше нравится — война или мир?»
В студенческие годы прочитал «Мастера и Маргариту» (даже выписывал некоторые цитаты оттуда) — сейчас она в школьной программе, но в мое время это было не так. Но читал с исследовательской точки зрения. У нас была общественная деятельность — дежурство добровольной народной дружины (ДНД). Мехмат дежурил на Патриарших прудах, мы должны были какое-то время там ходить, смотреть за порядком, ну, а потом, когда это время кончалось, исследовали старую Москву, в частности, ходили в подъезд, где была знаменитая квартира на Садовой. Оказалось, что там все стены вдоль лестницы были исписаны цитатами из Булгакова. Это меня сильно удивило, почти все цитаты, которые я выписал, были на стенах.
Я прочитал много американской литературы, например, Артура Хейли. Читалось очень легко, особенно знаменитые «Отель», «Аэропорт»… А потом я понял, что, в общем-то, у него все произведения довольно одинаковы. Прекрасно пошел Сэлинджер, «Над пропастью во ржи» — это взросление человека, потеря иллюзий очень красиво легли на студенческие годы. Читал также Драйзера, «Мартовские иды» Торнтона Уайлдера. Мне тогда было интересно все, что связано с Древним миром, особенно с великими людьми и последними днями Римской республики.
Потом я начал работать, довольно рано женился, у меня стало существенно меньше времени, и это сильно сказалось на чтении. Сейчас читаю я только в дороге: у меня трое детей, четверо внуков — семейных дел очень много. Слава Богу, сейчас появились смартфоны с электронными книгами, с которых можно читать даже при давке в метро. Стал слушать много аудиокниг. Были годы, когда я работал в Норвегии. Проезжая в Норвегию через Финляндию, пересекаешь ее всю, с юга на север. У Арто Паасилинны есть потрясающие произведения, и они идеальным образом привязаны к Финляндии! Едешь и понимаешь: это происходило вот здесь, вот лес, который там описан. И я столько слушал в дороге!
Сейчас я много летаю читать лекции в наши филиалы. Дороги длинные, полет длится два-три, иногда четыре часа, а уж если с пересадками… для чтения это очень хорошо. Когда устаешь, читаешь что-нибудь попроще, какие-нибудь детективы. Очень приятные и легонькие — Бориса Акунина. У него я прочитал все! Иногда читаю совсем простенькие, женские детективы Татьяны Устиновой: жена читает, я у нее и подхватил.
Сейчас, кстати, читаю серию очень интересных шведских детективов Ларса Кеплера, которые мне посоветовал мой друг из Норвегии. Но это легкое чтение, для времени, когда сильно устаешь.
 |
Захар Прилепин,«Патологии»
Теперь некоторые вещи мне стали советовать дети. Не просто советовать, а дарить. В частности, моя дочь Александра мне дарит не то, что нравится ей, а то, что, по ее мнению, должно понравиться мне. Она и дала мне Захара Прилепина. Я, честно говоря, совершенно не ожидал такого пронзительного и очень глубокого произведения, связанного с Чеченской войной. Я прочитал книгу с большим удовольствием. Этот роман запал мне глубоко в душу, потому что я очень хорошо помню эти обе войны. Это было тяжелейшее испытание для нашей Родины, сильнейшее и по трагизму, и по героизму. Притом я уверен, что огромный героизм проявили и сами чеченцы.
 |
Курбан Саид, «Али и Нино»
Еще одна книга, которую посоветовала моя дочка. Оказалась знаковой вещью. Это роман удивительной судьбы. Он был впервые напечатан в 1930-х, на немецком языке в Вене, в 1970-х издан в США и только после этого стал известен. На русском издан совсем недавно.
Пока я читал, меня не покидало удивительное ощущение, что роман написан только что. Эти чуть натянутые отношения русских и азербайджанцев… Ну, разве они были в то время?! Главный конфликт происходил между азербайджанцами и армянами, и он очень хорошо показывается в романе. Конечно, межнациональные конфликты — тяжелейшая вещь, особенно когда их подогревают искусственно. Мало того, даже слова похожи на те, которые говорятся сейчас или говорились в 90-е! Но нет, книга действительно написана в 1930-х. Можно, конечно, рассуждать о специальном подборе слов при переводе — я не читал ни на немецком, ни на азербайджанском.
Самое интересное: все, что там описано, я обошел! Знаменитые дореволюционные дачи в Мардакянах, Баку — старый и Черный город… Очень приятно читать произведение и осматривать места, описанные в книге.
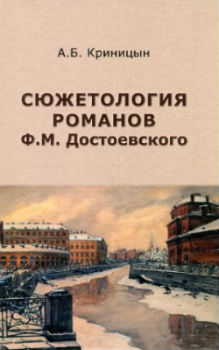 |  |
Александр Криницын, «Сюжетология романов Ф. М. Достоевского», Владимир Коровин, «Книга Иова в русской поэзии XVIII — первой половины XIXвека»
С тех пор, как мне стало понятно, что люди делятся на гуманитариев и естественников и что мой путь — что-то более строгое, техническое, я гуманитариев невзлюбил. Когда-то я считал, что гуманитарий — это человек, который разбирается в поэзии, хорошо знает литературу и искусство, а потом у меня возникло впечатление, что кто не знает таблицу умножения, тот и считает себя гуманитарием. Такое ощущение было до тех пор, пока я не стал ездить на выездные вступительные экзамены в 90-е годы. Экзаменационная команда состояла из математиков и филологов, и тут я обнаружил, что вопрос совершенно не в гуманитариях как таковых — вопрос в образовании. В МГУ профессионалы все — филологи, философы, химики, математики… Я просто влюбился в людей, занимающихся филологией, понял, насколько они все глубокие и разносторонние, дают фору некоторым технарям во многом, в том числе в понимании жизни. Это впечатление усилилось сейчас, когда мы стали ездить в филиалы МГУ в Астане, Баку, Душанбе …
Александр Криницын и Владимир Коровин — двое моих коллег и друзей с филфака. Очень перспективные молодые ученые. Я попросил их подарить мне свои монографии.
Криницын — специалист по Достоевскому. Я с таким удовольствием прочитал его диссертацию! Мало того — мы с ним еще спорили! И, кстати, недоспорили. Как приятно было обсуждать Достоевского с ним — глубоким специалистом! Я, правда, иногда не соглашался с его исследовательскими тезисами и выводами.
А Коровин — специалист по поэзии XVIII— начала XIX веков. Книга, которую он мне подарил, была про образ святого Иова в допушкинской поэзии. Тоже очень интересно! Здесь я уже спорить не мог, потому что в этом вопросе неграмотен, но, тем не менее, прочитал с огромным удовольствием! Мы в Баку сели обсуждать монографию около девяти часов вечера, и он без четверти восемь утром побросал вещи в чемодан и побежал на автобус в аэропорт. Я слушал его не прерывая. Если вы прочтете Коровина, удивитесь, сколько он знает. По-моему, уникальный человек.
Младший сын, которому 15 лет, сказал: «Папа, хватит читать всякую ерунду!» — и подарил мне книгу «Оно» Стивена Кинга. Я пока на нее с ужасом смотрю, потому что она очень толстая, а я с детства не люблю толстые книги (вспоминаю «Детей капитана Гранта»). Не знаю, понравится ли… Но думаю, что в конце концов прочитаю ее.
Подготовила Лилия Акбашева












.jpeg)



