Канторов ковчег
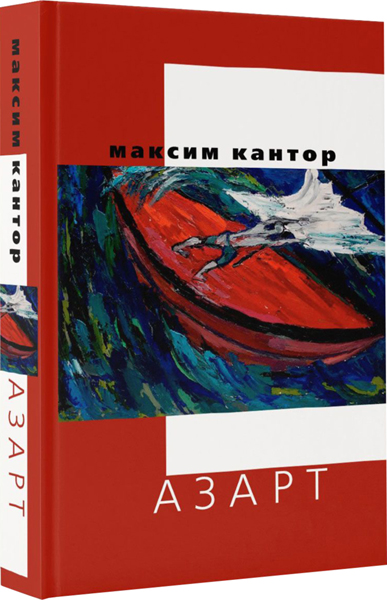 |
Волею случая на борту полуразвалившегося корабля собрались совершенно разные люди: художник-реалист, иезуит-социалист, левая активистка, оксфордский профессор, актёр Театра на Таганке, самовлюблённый поэт, малообразованный торговец, хиппующий музыкант с фиолетовыми волосами. Капитан корабля пытается объединить их в идеальную коммуну, где будут реализованы его самые смелые утопические фантазии.
Но такие разные люди просто не могут не спорить с капитаном и друг другом. Их не объединяет ни общий труд, ни общая мечта. С первого же диалога возникает вопрос: на каком языке герои общались, ведь они съехались из разных стран ― голландец, итальянец, серб, француженка, англичанин, испанец, два немца, два еврея, пятеро русских... «В самом деле, как же мы все понимали друг друга? Но ведь понимали, вот в чём штука! Так разговаривают меж собой пятилетние дети в интернациональном детском саду разом ― они говорят на особом детском наречии. Мы говорили на смеси всех языков разом ― а может быть, то был протоязык?»
Что ж, нетрудно в это поверить, пока герои спорят из-за денег и делят еду, но когда начинаются споры о политике, религии, философии и современном искусстве, занимающие добрую половину романа, отговорка «протоязык» выглядит как авторская недоработка. Не спасают даже поэтичные сравнения корабля то с Вавилонской башней, то с Ноевым ковчегом.
Это одна из многих досадных мелочей, из-за которых сложно верить автору, как бы ни была интересна задумка показать Европу конца XX века в миниатюре. Описаниями Кантор тоже себя не утруждает ― оговаривается только, что очередной пейзаж напомнил ему известное полотно Ван Гога или Рембрандта, и снова пересказывает околофилософские диалоги матросов. А вот к портретам подходит основательно, уделяя пристальное внимание каждой детали и порой затрачивая на описание одного человека пять-шесть страниц: «…оглядел кают-кампанию и заклокотал ― так он смеялся. Усики, закрученные на мушкетёрский манер, дрожали, когда поэт клокотал. Поэт взрывался ребячливым клёкотом, точно запускали мотор игрушечного петушка…»
Остроумно выписанные, странные персонажи романа довольно ярко проявляют себя, в то время как герой-рассказчик остаётся пассивным наблюдателем и, кажется, не очень-то задумывается, что с ним происходит: «…я ведь приехал рисовать ― ехал в круиз на океанской яхте, и вот одного дня не прошло, как уже таскаю мешки с какао-бобами в амстердамском порту. Я же хотел в каюте морские пейзажи рисовать… Эволюция мечты меня потрясла!» Постоянные объяснения рассказчика вроде «я тогда был юн и не понимал…», «в пору моей юности я не думал…» будто бы оправдывают его пассивность (впрочем, у этого юного героя уже был семилетний сын, которого он взял с собой на корабль). До безликости послушна и его жена единственный персонаж романа, которому автор не дал ни имени, ни портрета.
Библейские архетипы и вечные вопросы снижаются до утомительных споров и банальной игры на стереотипах. Однако, как и всякий мастер-беллетрист, Кантор умеет удерживать внимание читателя ― становится просто интересно, чем же всё это закончится. И когда любопытство становится сильнее интереса к бесконечным диспутам, заглядываешь в последнюю главу и убеждаешься, что корабль всё-таки потонет. Как, видимо, и Европа в мировоззрении Кантора. Это было предсказуемо. Но, как ни странно, само чтение от этого не стало менее любопытным: важно не что произошло, а почему. И похоже, именно этот вопрос ― главный для Кантора.

















.jpeg)